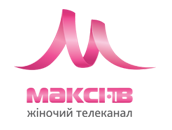23.02.2019
«Йоганна», спектакль КХАТ, в главной роли - Катарина Синчилло.
Спектакль, на который я попала второй раз. Видит Бог, я не умею лгать, я в
первый раз его не поняла до конца. А теперь я поняла его больше, чем сама того
хотела. О чём говорит Леся Украинка в своём драматическом этюде «Йоганна,
жінка Хусова»? О наболевшем. О цветаевской теме экзистенциального
одиночества женщины духа в материальном мире. «С этой безмерностью — в
мире мер» ©. Чем завершается? Почти суицидным, социально-богоборческим:
«Ну, когда уже это Царство Божье?» Или: «Отче, зачем Ты меня
покинул?» Башлачев выпрыгивает из окна. Байрон, человек Запада, умирает за
Грецию (читай: за себя, из-за «них» — несправедливости «их»
мира). Вечно задержанное событие Гефсиманского. Как поэт — понимаю.
Но есть еще я — как человек. Православный человек. Человек Востока. И здесь
начинается самое главное и очень трудное — преодоление страдальческой самости
во имя любви к тем, кто причиняет страдания. Ибо что вера без любви? Бубен
звенящий, медь гудящая, Есенин в «Англетере». Ужас жить по правде и
гибельный восторг с ее утратой. Актеры делают почти невозможное: они продолжают
лесин этюд без слов, порхая поверх сюжета на жестике и подтекстах, играя
полифонию на дополнительной аранжировке. И что мы видим? Йоганна, которая во
многом перекликается с лесиной Мириам (героиней «Одержимой»)
преодолевает личное ради общего, эрос — ради новозаветного агапе (чего не
смогла влюбленная в Мессию вторая христианская женщина Леси).
Йоганна не просто несет правду и впадает в отчаяние от невозможности ее
реализации в мире. Она находит в себе мужество перестать раздражаться на мир и
полюбить его таким, как он есть. Принять принятие. Она становится выше своей
обиды на мужа-иудея (или на патриция-язычника, не суть) и спасает любимого,
оставаясь с ним, а не вне его. Именно она обращает римских политеистов в учение
любви, потому что то, что в этюде было просто «виллой с озером», в
постановке КХАТ — метафора Царства Божьего, Тивериадское озеро. Китеж. Киев.
София. Соня. Славянская теургическая воительница — Мария Оранта И в этом — вся
Катя как человек, вне гендера, вне даже ее воли и заслуг, вне ее рефлексии, она
— как носитель (унаследовавший бессознательно) киевского скоморошье-юродивого
архетипа сакрального на грани гротеска, провокации и святости.
Мне это напомнило концовку нашумевшего и любимого мною фильма М. Скорсезе
«Молчание» — Иисус не являлся истово верующему герою, пока тот не
отрёкся от веры ради спасения жизни людей, в чем и была подлинная суть Христова
учения. Богоявление в момент Богоотречения, совершенного не как предательство,
а как жертва. Йоганна получает Благодать не в момент гневливого разоблачения
грешника Хуса, а в момент, когда берет его в объятия. Ибо глупенький он и
маленький, этот любящий ее, растерянный язычник, притворяюшийся похотливым
деспотом. Актеры сами сыграли эти скрытые планы, поставив христианскую точку в
лесином богоборчестве.
Патриархалы: мужчина всегда прав. Феминисты: женщина всегда права и чхать
хотела на мужчин. Христианство: при чем тут женщина или мужчина? Дух либо есть,
либо его нет и надо найти — и в этом правда, и суть, и путь вне пола и пыли. Выбираю Христа.
Еще раз с 23-м, воители.